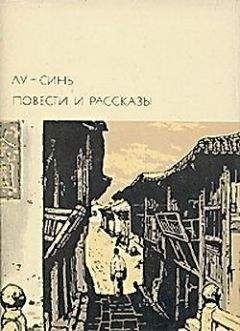разжимая губ. Я знал, что все они из одной шайки, все они людоеды. Однако, я тоже понял что их мысли не были одинаковыми; одни думали, что нужно пожирать людей, так как это было заведено издавна; другие, хотя и понимали, что нельзя есть людей, все же имели желание это делать. Вместе с тем они боятся, как бы другие их не разоблачили, поэтому едва только они услышали мои слова, как очень рассердились, но все же продолжали смеяться, зажмурив глаза.
В это время брат вдруг со злостью громко закричал:
– «Пошли вон! Чего хорошего нашли смотреть на сумасшедшего!».
Тогда я распознал еще одну их уловку. Они не только не желали исправиться, но давно уже все подготовили; заранее смастерив вывеску «сумасшедший» – спрятали меня за ней. В будущем, когда они меня сожрут, не только все будет шито-крыто, но боюсь, что наоборот, они встретят сочувствие со стороны некоторых людей. Рассказ арендатора о том, что съели злодея как раз и свидетельствует, что они прибегли именно к этому способу. Это их старый прием!
Чень Лао-у, тоже очень сердитый, подбежал ко мне. Как бы они не пытались заткнуть мне рот, я все-таки хочу сказать этим людям: – «Вы можете исправиться и начинайте это делать от всего чистого сердца Вы должны знать, что в будущем на земном шаре не будет места людоедам. Если же вы не исправитесь, вы сами будете съедены до последнего. Сколько бы вас не народилось, все, вы будете уничтожены настоящими людьми, точно также как охотниками уничтожаются волки. Как уничтожают червей»!
Чень Лао-у выгнал эту шайку. Брат тоже ушел неизвестно куда. Чень Лао-у уговорил меня вернуться в комнату. В комнате – непроглядная тьма. Балки и стропила закачались над моей головой; покачались немного и начали расти в размерах… Навалились на меня… Невыносимая тяжесть, невозможно шевельнуться: они хотят, чтобы я умер. Я понял, что эта тяжесть не настоящая и выкарабкался, обливаясь потом. Однако, я, во что бы то ни стало, хочу им сказать: – «Немедленно исправьтесь, начинайте исправляться от всего чистого сердца! Вы должны знать, что в будущем не будет места людоедам…»
И солнце не всходит, и двери не отворяются: каждый день кормят два раза. Я беру палочки для еды [6] и приходит на ум брат; я знаю, что причиной смерти маленькой сестры целиком является он. До сих пор у меня перед глазами стоит образ сестры, которой было тогда пять лет – такой милый и печальный образ. Мать непрестанно рыдала, но он уговаривал ее не плакать; наверное потому, что он сам сожрал сестру, а плач безусловно вызывал в нем угрызения совести. Но если он еще может чувствовать угрызения совести…
Сестру съел брат: я не знаю, известно ли об этом матери? Думаю, что мать это знала, но когда она плакала, то не говорила особо об этом, так как, видимо, тоже считала, что так и следует. Припоминаю, что, когда мне было четыре-пять лет, я как-то сидел перед домом и наслаждался прохладой; брат тогда сказал, что, если кто-либо из родителей заболеет, сын должен вырезать у самого себя кусок мяса, сварить его и предложить съесть; только тогда он имеет право считаться хорошим человеком. Мать же тогда не говорила, что это недопустимо. Раз можно скушать кусок, то естественно можно съесть и целого Однако, когда я вспоминаю сейчас, как она тогда плакала – при виде этого разрывалось сердце – право, это все необычайно странно.
Больше не в силах думать. Только сегодня я понял, что я уже много лет живу там, где на протяжении четырех тысяч лет все время едят людей; старший брат ведет хозяйство, умерла моя маленькая сестра и где гарантия того, что он не смешал ее мясо с пищей и тайком не кормил нас этим! Не исключено, что я невольно съел несколько кусочков мяса моей сестры, а теперь очередь дошла до меня самого… Я, у которого за спиной четыре тысячи лет людоедства, раньше не знал, а сейчас понял, что вряд ли я сам – настоящий человек.
Возможно ли, что еще есть дети, не пожиравшие людей? Спасите, спасите детей…
Поздней осенней ночью, когда луна уже зашла, а солнце еще не всходило, небо было черно-синим и все, кроме ночных птиц, спало, Хуа Лао-цюань вдруг встал, чиркнул спичкой и зажег масляную плошку. По обеим комнатам чайной распространился бледный свет.
– Ты сейчас пойдешь, отец Маленького Цюаня? – послышался голос старой женщины. И из внутренней комнатки донесся кашель.
– Г-м, – ответил Старый Цюань, застегивая платье. Протянув руку, Он сказал: – Дай сюда! Хуа Да-ма долго искала под подушкой, вытащила связку денег и передала ее Старому Цюаню. Старый Цюань ощупал деньги, дрожащими руками положил их в карман и снова дважды ощупал снаружи. Затем зажег фонарь, задул лампу и прошел во внутреннюю комнату. Оттуда послышался шёпот, а затем снова кашель. Когда кашель умолк, Старый Цюань сказал негромко:
– Маленький Цюань, ты не вставай… Что, чайная? Твоя мама сама управится.
Так как сын ничего больше не сказал, Старый Цюань решил, что он успокоился. Он вышел на улицу. Было темно и пусто. Ясно была видна только серая дорога. Фонарь освещал попеременно то одну его ногу, то другую. Навстречу попадались собаки, но ни одна не залаяла. Было значительно холоднее, чем в комнате. И все же Старый Цюань чувствовал себя бодро, как будто он вдруг помолодел и даже приобрел волшебную силу дарить жизнь другим. Он шел очень крупными шагами. И чем дальше, тем дорога становились яснее, и небо все светлело. Старый Цюань, весь поглощенный мыслями о своем путешествии, вдруг испугался. Вдалеке перед ним та улица, по которой он шел, упиралась в ясно видимую поперечную улицу. Он, отступил на несколько шагов и, разыскав запертую дверь какой-то лавки, забился под выступ крыши и прислонился к двери. Скоро он почувствовал, что тело его холодеет.
– Ага, старик!
– Да еще и веселый…
Старый Цюань опять испугался. Вглядевшись, он увидел, что мимо идет несколько человек. Один даже оглянулся и посмотрел на него. Облик его было трудно различить, но, казалось, что это был изголодавшийся человек, который увидел что-то съедобное. В глазах у него сверкал разбойный огонек. Старый Цюань увидел, что фонарь уже погас. Он ощупал карман и ощутил твердость денег, которые по-прежнему были на